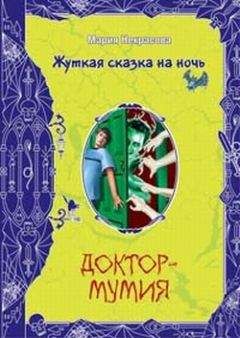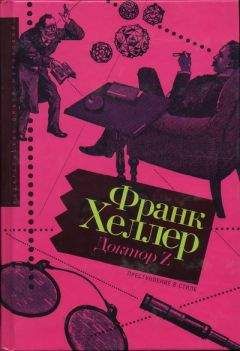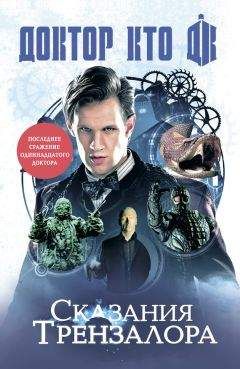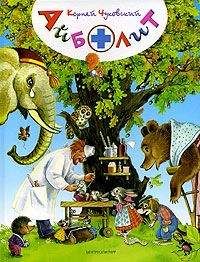Тод Гринуэй - Праздношатание[Полная версия]
А как тогда насчет Батая и де Сада, считающихся умными и опытными писателями? Вряд ли у них получается намного лучше. На страницах их книг мне слышится своего рода отчаяние: опыт не подлежит описанию. В знаменитом рассказе Батая женщине достается глаз только что погибшего тореро. Она засовывает его в вагину. Это, конечно, яркий образ, но вряд ли его можно считать эротическим.
Трудность в том, что оргазм, при котором стрелка зашкаливает, не может быть описан. Это не из–за интенсивности; когда ешь манго, стрелка едва вздрагивает, однако, это ощущение тоже нельзя описать. Кажется, что сама природа чувственного опыта не поддается уму. Строго говоря, чувственный опыт нельзя даже запомнить. Я помню великолепную спелую грушу, сорванную с дерева, склонившегося над дорогой, во время велосипедной поездки пятьдесят лет назад, но все, что я, на самом деле, помню, это, что я съел ее и подумал, какая она вкусная. Опыт сам по себе занимает определенное место в памяти (в технической терминологии «метка–заполнитель»), но у него нет размеров, нет, так сказать, объема. Груша и оргазм так же далеки от нашего представления, как и Бог. Суть опыта может ссылаться на другие ощущения, даже сравниваться с ними, но ее нельзя коснуться.
Из этого интереса к сексу, как к теме самой по себе, следует, наверное, один положительный результат: люди теперь не стесняются пользоваться старыми и простыми англосаксонскими словами для определения частей тела вместо того странного языка, который нам навязывают врачи. Когда я вхожу в кабинет врача, мой член съеживается в жалкий маленький «пенис». Да, честные старые слова возвращаются в последние двадцать пять лет и в речь, и на печатную страницу, и я считаю, что это хорошо, потому что эти краткие грубые слова соединяют нас, не важно, насколько крепко, с англосаксонскими корнями нашего языка.
Немного людей сегодня, кроме лингвистов и прочих ученых, кажется, вообще знают, что английский — это смесь двух источников: латыни в форме французского языка, привезенного в Англию во время нормандского вторжения, и того, что мы называем англосаксонским, или древнеанглийским языком, который мы унаследовали от Северной Европы.
Словарь называет этот язык «древне–тевтонским». Обычная речь содержит слова из обоих источников, но ругательные слова, за исключением слова «мудак», импортированного с Балкан, — сугубо англосаксонские.
Я помню, как я впервые услышал, как женщина произносит слово «fuck». Это старинное слово теперь стало частью языка, хотя оно чрезмерно и навязчиво используется в качестве того, что церковь называет «богохульством». Это прямо напасть, метить словом «fucking» то и это, и ведет оно к весьма неряшливой речи. Этому есть причина. Англосаксонский — эмоциональная часть нашего языка. Если мы называем кого–то «жирным», это обидно, что и требуется. Если мы называем его «тучным», это просто равнодушное медицинское утверждение. Когда мы — я с уверенностью говорю и за вас — когда мы полностью выбиты из колеи вероломством судьбы, явной недоброжелательностью удачи или непримиримостью человеческой природы, ничто так не удовлетворяет эмоционально, как произнесенное в сердцах слово «Дерьмо!»
Итак, с какой бы страстью норманны не проклинали упрямых британцев, ни одно из их латинизированных ругательств не привилось.
Единственное слово, которое мне не нравится, это «п…да», потому что мальчики и мужчины с фермы, среди которых я рос, использовали этот типичный термин для выражения презрения к любому, кто им не нравился, будь то мужчина или женщина. Я знаю, альтернативным ругательством теперь стало слово «ж. па», но я не могу заставить себя пользоваться ни тем, ни другим. Тот факт, что одна из самых прелестных частей тела стала ругательством, говорит о том, как мужчины думают о женщинах. Это слово, в любом случае, не необходимо, поскольку есть милое и чувственное слово «vulva», даже пусть оно исходит и от латинской части языка.
Я иногда думаю, не потому ли английский язык так распространился по земному шару, что эмоции из его древнеанглийской части благополучно ушли, то, что осталось, их лишилось, и поэтому английский очень хорошо подходит людям современного технического склада ума, предпочитающим мыслить безэмоционально. Радиотехник скажет, что испытывает технические трудности, он никогда не скажет, что ему тяжело приходится из–за упрямой детали «еб. ой» машины.
Однако я хочу написать о чувственности. Секс все сводит к тому, что называется трахаться. Чувственность открывает для нас великолепие (и, конечно, отвратительность) мира. Прикоснуться. Попробовать на вкус. Слышать. Видеть. Нюхать. Без этих способностей мы не смогли бы узнать, что такое мир, или что такое мы сами.
Изгнанный герцог в «Как вам это понравится», покинутый среди зимы в Арденском лесу, характеризует бурю и холод с одобрением, как «советников, с чувством убедивших меня в том, чем я, на самом деле, являюсь». Дрожь в лесу открывает герцогу, что он хрупок и смертен.
Людям трудно отделить эротику от сексуальности. Интернет–сайты, называющие себя эротическими, на поверку оказываются порнографическими. Церковь до последнего времени предостерегала против «чувственности», наверное, потому, что епископы не могли отделить ее от сексуальности. Для епископа быть чувственным значит быть сексуальным. Епископам надо бы почитать Бытие.
Бог прогуливался в своем саду «в прохладе дня». Что может быть более чувственно, чем пение птиц и ароматы и краски растений? Как раз во время такой прогулки Бог пошел искать Адама, чтобы посмотреть, как он справляется с возделыванием почвы. Предполагалось, что Адам будет садовником; в его контракте было сказано «возделывать сад и хранить его». Вместо этого Бог обнаружил, что Адам совместно с женой поедает яблоко и обсуждает со змеем возможности развития человечества.
Мое детство на ферме было лирически чувственным. Длинные летние вечера, далекий койот, огоньки сигарет взрослых на крыльце, первый порыв собирающейся бури… Но когда я вырос и начал думать о женщинах, чувственность стерлась, смешалась с сексуальностью. Я знал, что среди мальчиков и молодых мужчин бытовало негласное положение, что чуть ли не обязанностью мужчины было проникнуть к женщине в штаны. То же самое было в художественной школе. У меня с этим никогда ничего не получалось.
На более высоком уровне, в вежливом мире нашей семьи и ее друзей, существовала этакая легенда, что мужчина преследует женщину, та спасается бегством, но убегает не слишком быстро. Как все это происходит на самом деле, я тоже не знал. Я даже никогда не ходил на свидания.
Но потом пришли семидесятые, время Трюдо. Эта эра казалась мне чудесной. Женщины западного мира стали рассматриваться, как люди. Отказаться от обязанности распутничать, получить возможность встречаться с женщинами просто, как с друзьями, было большим облегчением. Те, кто высмеивал «освобождение женщины», не смогли уловить, что освобождение женщин было освобождением нас всех.
Женщины — такое удовольствие их знать! Они ходят группами, смеются, с едкой иронией разговаривают с мужчинами, долго сидят над кофе, стоят, подбоченясь, за кассой, шагают по своим делам, сплетничают, работают на огороде. Я восхищаюсь узкими бедрами и широкими плечами современных женщин, сформированными беговой дорожкой и аэробикой, их тщательно натренированными «прессами», без сомнения, твердыми, как железо, но более привычно я чувствую себя с женщинами традиционного сложения: с плавно округлыми ляжками, с мощными бедрами и сильным животом, уравновешивающимися подъемом груди и высоко поднятой головой. Форма икры с двумя отчетливо выделяющимися мускулами также элегантна, как и другие части тела. Иногда трудно отделить женщину от ее эстетического восприятия. Локоть с сухожилием, которое идет вдоль предплечья и придает ему подъемную силу, две кости, позволяющие запястью поворачиваться… и все это одинаково элегантно, как у мужчин, так и у женщин. Мое чувственное восприятие тел старомодно, как восприятие лодок.
А одежда! Бесконечная изобретательность в драпировке фигуры. И одеваются они для себя, а не для мужчин. Вешалка с одеждой в магазине для меня загадка, самое элегантное платье для меня не сильно отличается от мешка для муки, и я не в состоянии постичь, как можно заключить в него живого человека. Но женщина приблизится к вешалке, склонит голову в коротком размышлении, сделает выбор, приложит к себе результат этого выбора и немедленно примет решение. И вот, платье уже появляется с женщиной внутри… вуаля! У Кэрол Шилдз в одном из коротких рассказов хорошо сказано про одежду: «Тамара никогда не проверяет погоду перед тем, как одеваться; ее одежда и есть погода…»
Если, в соответствии со словарем, остроумие определяется, как «умение доставить внезапное интеллектуальное удовольствие посредством неожиданного объединения ранее не связанных идей или вещей», то в процессе украшения себя, как изучаемого объекта, присутствует постоянная игра ума. Я почти убежден, что в совершенстве одетые, уложенные и обутые женщины, могли бы поклоняться себе, как иконам, если бы не слабое, но постоянное беспокойство, которое, кажется, всегда с ними и которое отличает их от икон.